В мире ослепленных тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
22:19
знать надо!
11.07.2011 в 15:00
Пишет TrashTank:Исторические мифы от НКВД
Миф.
Во время подавления антоновского восстания на Тамбовщине в 1921-м году Тухачевский широко применял боевые отравляющие вещества против мирных жителей, что повлекло за собой многочисленные жертвы.
читать дальше
ПРИМЕРЫ: «Мы никогда не узнаем, сколько людей погибло от химических снарядов, выпущенных по острову на озере вблизи селения Кипец и во многих других местах. И сколько среди них было женщин и детей. Раз Тухачевский опасался, что во время обстрела мятежников химическими снарядами может пострадать скот, значит, повстанцы укрывались в лесах со своими коровами, овцами. За животными кто-то должен был ухаживать, следовательно, хотя бы часть «бандитов» укрывалась от карателей вместе с семьями, которые тоже стали жертвами «газовой зачистки» по Тухачевскому. По крайней мере в одном следует признать абсолютный приоритет «красного маршала» в мировой военной науке: он впервые в истории применил боевые отравляющие вещества против безоружного мирного населения»
«В начале двадцатых командарм Тухачевский травил газами тамбовских крестьян, недовольных «продразверсткой». Газеты писали о тысяче отравленных».
«…в этой беспощадной войне со своим народом впервые взошла звезда «выдающегося советского маршала» Тухачевского, который прославился тем, что тысячами крестьян газами травил. Даже фашисты в годы Великой Отечественной до этого не додумались. Не будет лишним напомнить и то, что одной из решающих причин Тамбовского восстания (помимо людоедской продразверстки) было установление Троцким (Лейбой Бронштейном) в городе Козлове памятника Иуде».
Данная информация должно продемонстрировать изуверскую сущность советской власти и полное её пренебрежение человеческой жизнью.
Действительность
Для начала надо сказать, что применение боевых отравляющих веществ во время Гражданской войны было делом совершенно обычным: ими неоднократно пользовались как белогвардейцы, так и британские оккупационные части на Севере. Примерно в это же время Уинстон Черчилль, занимавший пост министра колониальных дел, писал: «Я не понимаю эту щепетильность в связи с использованием газа. Я твердо выступаю за использование ядовитого газа против нецивилизованных племен». читать дальше
Имелось химическое оружие и на вооружении армии царской России. Всего за 1916–17 год было снаряжено и сдано около 1.700.000 3-х дюймовых (93% от общего объема выпуска) и около 120.000 6-ти дюймовых боеприпасов (7%). Из этого количества РККА досталось в боеспособном состоянии примерно 3000 баллонов с хлором типа E70, 13360 штук 3-х дюймовых химснарядов (исключительно марки АЖО) и 5000 штук 6-ти дюймовых химснарядов (марки АЖО и ЮО).
Самым известным случаем применения БОВ со стороны «красных» во время Гражданской войны является один из эпизодов подавления «антоновщины» в 1921-м году. При этом большинство авторов, пишущих о «травле крестьян газами», делают очевидную подмену понятий, представляя дело так, будто бы БОВ использовались против мирного населения, а не против вооружённых формирований. Также надо добавить, что направленные в распоряжении Тамбовского командования 2.000 3-х дюймовых химических снарядов были марки АЖО, то есть снаряжены смесью на основе хлорпикрина («слезогонки», в настоящее время использующейся в армии РФ для имитации газовых атак).
В качестве документальной базы наиболее часто используются следующие документы, первоначально опубликованные в книге Б.В. Сенникова «Тамбовское восстание 1918-1921 гг. и раскрестьянивание России 1929-1933 гг.»:
Начальнику артиллерии войск Тамбовской губернии
Тов. Косинову
РАПОРТ
20 августа 1921 года.
Дивизион Заволжских артиллерийских курсов при операции в районе озера Рамза израсходовал 130 шрапнельных, 69 фугасных и 79 химических снарядов.
Начальник отдела Заволжского дивизиона
артиллерийских курсов Михайлов
Начальнику артиллерии группы войск Тамбовской губернии
23 августа 1921 года. с. Инжавино
ДОНЕСЕНИЕ
Августа 22 числа 1921 года артиллерийская бригада Заволжского В.О. в бою с бандитами израсходовала 160 шрапнельных, 75 фугасных и 85 химических снарядов.
Начальник артиллерийской бригады
(подпись нрзб)
Начальнику 6-го боеучастка тов. Павлову
23 августа 1921 г. с. Инжавино
ДОНЕСЕНИЕ
По получении мною боевого задания дивизион в 8.00 22 августа с.г. выступил из села Инжавино в село Карай-Салтыково, из которого, после большого привала и отдыха в 14.00 по направлению села Кипец. Заняв там позицию, в 16.00 открыл огонь по острову на озере в 1,5 версты северо-западнее села Кипец. Дивизионом выпущено по острову 65 шрапнельных снарядов, 49 фугасных и 50 химических. После выполнения своей задачи дивизион в 20.00 снялся с позиции и возвратился ночью в село Инжавино.
Командир Белгородских артиллерийских курсов Нечаев
Однако, подлинность приведенных документов вызывает серьезные сомнения. И дело даже не в том, что ознакомиться с подлинниками не представляется возможным, ибо Сенников ссылается на загадочный «архив автора», якобы найденный им под полом Зимней церкви Казанского монастыря в Тамбове, сколько в том, что сами тексты не выдерживают никакой критики.
Никакого «Начальника артиллерии» в войсках Тамбовской губернии не существовало. Деятельность артиллерии курировал Инспектор артиллерии войск Тамбовской губернии. Причем именно курировал, поскольку в оперативном отношении батареи подчинялись начальникам боеучастков или частей, к которым были приданы. Все командиры дивизионов и батарей не раз обращались с рапортами и донесениями к Инспарту и прекрасно знали кому они пишут, поэтому именовать Инспектора «Начальником артиллерии» никому из них просто не пришло бы в голову. Да и во всех других документах такое обращения ни разу не встречается.
Не «Косинову», a Касинову. Должность тамбовского Инспектора артиллерии занимал Сергей Михайлович Касинов. Об этом также были осведомлены командиры частей, тем более, что все они были с ним лично знакомы.
Ни 20, ни 22 августа никакой «операции в районе озера Рамза» не проводилось, да и «боев с бандитами» с применением артиллерии в эти дни не было, посему никаких снарядов выпущено быть не могло.
Никаких «Заволжских артиллерийских курсов» в природе не существовало. В составе 2-го боеучастка Тамбовских войск действовала стрелковая бригада Заволжского Военного Округа (ЗВО, командир Гаевский) со своим легким артиллерийским дивизионом, обычно в документах именовавшемся «легартдив ЗВО» (командир Смок Харитон Каятанович). Больше ничего «Заволжского» в губернии не было. Кстати, учитывая то, что легартдив входил во 2-й боуечасток, странно выглядит его участие «в операции в районе озера Рамза», каковой район был зоной ответственности 6-го боеучастка, имевшего свою артиллерию.
Термин «фугасных» в документах тех лет не встречается вообще ни разу. Ни в тамбовских, ни в документах фондов ГАУ, ЦУС, Штаба РККА, ни в других таковой термин не используется. Фугасные снаряды в то время именовались «гранатами» для 3-дюймовой артиллерии, и «бомбами» для орудий более крупных калибров. Поэтому ни одному командиру-артиллеристу, да и не только артиллеристу, и в голову не могло прийти написать «фугасных».
Ну и совсем уж несуразно выглядит термин «отдел» применительно к артдивизиону, в котором существовали разведка, связь, канцелярия, но чтобы «отдел»…
Фамилии Михайлов среди личных дел комсостава легартдива ЗВО, да и во всей Тамбовской артиллерии, равно как и в управлении Инспарта нет.
Разумеется, никакой «артиллерийской бригады» в Тамбовской губернии, да и Красной Армии вообще, в то время не было.
Неясно также, почему Начальник мифической артиллерийской бригады пишет свое донесение из Инжавино, где располагался штаб 6-го боеучастка, a не из Рассказово (или со ст. Сампур), из штаба 2-го боеучастка, которому и принадлежала артиллерия ЗВО.
Все вышесказанное не позволяет признать приведенные тексты соответствующими действительности.
Тем не менее, стрельба химснарядами по повстанцам всё же велась. Правда, в реальности это выглядело совсем не так эффектно, как описывается во многих работах. Известен всего один случай заранее запланированного применения газовых снарядов. Кроме того, выявлено два разрозненных эпизода артиллерийской стрельбы химическими боеприпасами. Этим исчерпывается история «Тамбовских газов».
Первый эпизод произошел в зоне 2-го боеучастка. После получения присланных химснарядов, командир легартдива ЗВО Смок своим очередным донесением о движении боеприпасов сообщал Инспарту Касинову, что «…за период 13-20 июля израсходовано 15 химических снарядов…».Ни поводов, ни результатов этой стрельбы в донесении не указано. Представляется наиболее вероятным, что эти боеприпасы были выпущены в бою у деревни Смольная Вершина в ночь с 12 на 13 июля, по крайней мере, других столкновений с применением артиллерии в период 13-20 июля выявить не удалось. Остается только гадать, что же заставило красноармейцев выпустить аж целых 15 газовых снарядов. Увы, ничем, кроме чистого любопытства и желания узнать насколько эффективны новые боеприпасы объяснить это невозможно. Вероятно, убедившись в невысокой действенности химснарядов, артиллеристы 2-го боеучастка больше нигде их не применяли, и указанные 15 снарядов исчерпали весь использованный газовый арсенал.
Несколько масштабнее выглядела артиллерийская стрельба в зоне 6-го боеучастка. 16 июля Начарт 6 Родов докладывал Инспарту Касинову «…14 июля 22 часа белгородская конная батарея обстреляла лес что южнее озера Ильмень. Выпущено 7 шрапнелей и 50 химических снарядов…». К сожалению, целенаправленные поиски причин, целей и результатов этой стрельбы не принесли никаких результатов. Ни в оперативных приказах, ни в сводках боевых действий, ни в донесениях командиров частей об этом артобстреле не сказано ни слова. Единственным документом упоминающим данный обстрел остается процитированное выше донесение, поэтому можно утверждать почти наверняка, что никаких серьезных результатов указанный обстрел не принес, ибо даже не удостоился упоминаний в оперативных сводках как эпизод мало значимый.
Единственной операцией, где газовый обстрел планировался заранее, была операция по очистке Паревского леса, проводившаяся в период с 1 по 10 августа 1921 г. силами частей 6-го боеучастка.
Ранее, при проведении подобных операций, красные части не раз применяли метод обстрела занятых антоновцами лесов артиллерийским огнем, служившим некоторым подобием артиллерийской подготовки. Поскольку расположение повстанцев редко когда было известно в точности, огонь этот вёлся «по площадям», в расчете, главным образом, не на материальное, a на моральное воздействие. И эта цель успешно достигалась. Например, описывая операцию по очистке Богдановского леса, в которой впервые был использован этот метод, Мокеров пишет: «…этот огонь, не нанеся больших потерь рассеянным в лесах бандам, произвел на них потрясающее моральное впечатление. Многие бандиты в одиночку и мелкими группами в результате артиллерийского воздействия стали выходить на опушки лесов и сдаваться…».
2 августа Начарт-6 Родов докладывал Инспарту Касинову «В 16 часов, по острову, что с/з села Кипец был открыт огонь. Выпущено 65 шрапнелей, 49 гранат и 59 химических. В 20 часов батарея вернулась в Карай-Салтыково…». Оперсводка № 519 сообщала: «…2/8 взводом Белгородской батареи был произведен обстрел леса, что 4 версты западнее Козьмодемянское-Рамза, 8 верст с/в ст. Инжавино после чего отрядом в составе: роты краскомов, роты Рязанского батальона, роты Костромского батальона и роты Владимирского батальона было приступлено к осмотру леса…» Как и ранее, вновь был использован испытанный и хорошо себя показавший метод предварительной «артиллерийской подготовки» перед прочесыванием зарослей, однако на сей раз уже с применением химснарядов, которые, как ожидалось, должны были бы «дать действительно большие результаты». Увы, надежды не оправдались.
2 августа курсантские роты, выделенные для прочесывания, продвинулись с исходной линии Кипец – северная окраина Паревки до линии Кипец – северная окраина озера Змеиное, успев осмотреть лесистый остров «Сухие Дубки», по которому и велся огонь. «…На Сухих Дубках курской ротой были найдены привязанными к деревьям три лошади с седлами; на последних имелись надписи А. Антонова, Д. Антонова и Вострикова. Серая лошадь, по всем приметам, принадлежала Антонову. В камышах в наши руки попало за день несколько бандитов, которые подтвердили, что в районе Змеиного озера находится главная группа бандитов, человек в 100, среди них и сам Антонов. Другая группа, человек в 80, отделилась и ушла на юг. Среди главной группы заметно течение к добровольной сдаче, но Антонов предупредил, что будет собственноручно расстреливать всякого, кто будет пытаться переходить…». То ли антоновцы успели выйти из-под обстрела, то ли их вообще не было на «Сухих Дубках», но ни о каких понесенных ими потерях ни оперсводки, ни Доможиров не сообщают. Единственными трофеями были «три лошади», кстати, благополучно пережившие газовый обстрел. Что, впрочем, не удивительно, ибо «59 химических снарядов» было явно недостаточно, чтобы создать газовое облако необходимой концентрации.
Таким образом, использование газовых снарядов против повстанцев имело скорее моральный эффект, чем приносило им какой-либо материальный урон. И, разумеется, никаких «тысяч погибших от газа», в том числе женщин и детей, в реальности не существовало.
Источник: Бобков А.С.
URL записи
Миф.
Утверждается, что Сталин в начале 1943-го года пытался «перехватить» в своих целях идею русского национализма и даже планировал для этого использовать внешнюю атрибутику в виде бело-сине-красного флага.
а на самом деле...
Это утверждение также попало и на страницы скандально известного «зубовского» учебника по истории России: «Сталин был даже готов ввести в 1942-1943 гг. трехцветный бело-сине-красный флаг как флаг части СССР - Российской СФСР»
Также программа радиостанции "Свобода" от 10.03.2009 сообщала «В Госархиве Российской Федерации лежит документ – это перехваченная немцами секретная телеграмма Молотова Литвинову, который был советским представителем в Вашингтоне, о том, что было экстренное совещание Политбюро, и Сталин хотел ввести бело-сине-красный флаг, чтобы перехватить это у Власова»
В 2000 г. Юрий Цурганов опубликовал статью с интригующим названием «Зачем Сталину трехцветное знамя?». В ней цитируется телеграмма Молотова послу в США Литвинову от начала 1943 г.:
«В начале 1943 г немцы перехватили телеграмму наркома иностранных дел В.Молотова советскому послу в Вашингтоне М.Литвинову. Документ, носивший гриф «совершенно секретно» сообщал: «10 января состоялось заседание Политбюро. Слушали сообщение НКВД и местных парторганизаций на постановление об изменении знаков различия и других мероприятиях по укреплению дисциплины в армии. Тов. Сталин считает необходимым безоговорочное проведение взятого курса. Общая политическая и военная обстановка требует еще более резкого курса на патриотизм и русский национализм. Признано своевременным переименование Красной армии в Русскую армию, изменение названия «командир» на «офицер», привлечение духовенства всех исповеданий, особенно православного, на службу в армии. По поручению т. Сталина выясните реакцию Белого дома, Конгресса и военных кругов на возможность изменения конституции и введения трехцветного государственного флага».
В данной статье дается ссылка на источник информации - ГАРФ, фонд 5761, оп. 1, д. 9, л. 207. Далее, в этой же статье, утверждается: «А 22 июня 1943 г. в Пскове прошел парад одной из частей РОА под бело-сине-красным флагом. Это был первый, после гражданской войны, зафиксированный случай поднятия русского знамени на родине. Телеграмма Молотова свидетельствует о стремлении Сталина перехватить у Власова внешнюю атрибутику и терминологию русского патриотизма».
Совершенно не понятно, почему Сталин уже 10.01.1943 знает, что 22.06.1943 в Пскове состоится парад РОА и поэтому пытается «перехватить внешнюю атрибутику».
Указанный фонд относится к числу тех, что содержат документы по истории белого движения и эмиграции, а именно фонд 5761 это: «КАНЦЕЛЯРИЯ КАЗАЧЬЕГО НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. г. Прага. 1941 - 1945», что совершенно не подходит для хранения телеграмм советского МИДа. Не могут в пределах одного дела в архиве лежать документы коллаборационистского «командира Донского Корпуса» и советская МИДовская переписка. И главный редактор журнала «Посев» Ю. Цурганов об этом знает, так как работал именно с этим фондом в архивах. В своей книге «Неудавшийся реванш» он ссылается на документ из этого фонда, соседние листы дела.
Саму же телеграмму Ю. Цурганов приводит не полностью и «забывает» указать, что «оригинал» написан на украинском языке. Конечно же, не приходится предполагать, что переписка между Молотовым и посольством в США шла по-украински.
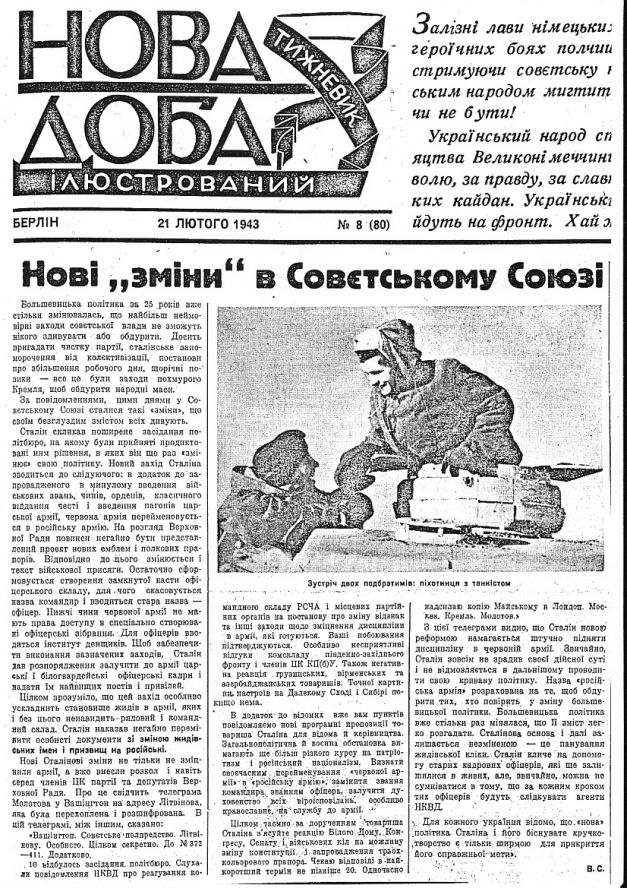
Вот так просто творческому переосмыслению эмигрантской прессы и немецкой пропаганды подверглись указ Президиума Верховного Совета от 06.01.1943 «О введении новых знаков различия для личного состава Красной Армии» и одноименный приказ НКО от 15.01.43
URL записи
Миф.
Советский энциклопедический словарь 1964 г. отзывается об этой героической личности со всем уважением: «Сусанин Иван Осипович (ум. 1613) – крестьянин с. Домнино Костромского у., нар. герой, замученный польскими интервентами, отряд к-рых он завел в непроходимую лесную глушь. Героич. поступок С. лег в основу мн. нар. преданий, поэтич. и муз. произв.».
Энциклопедический словарь 1985-го еще более уважителен и прямо-таки эпичен: «Сусанин Иван Осипович (?–1613) – герой освободит. борьбы рус. народа нач. XVII в., крестьянин Костромского уезда. Зимой 1613 завел отряд польск. интервентов в непроходимое лесное болото, за что был замучен».
РеальностьПожалуй, автор, писавший в 85-м, гораздо больше заботился о достоверности, нежели его коллега из 64-го. «Болота», нужно признать, выглядят не в пример убедительнее «лесной глуши», из которой «чертовы ляхи» отчего-то не нашли выхода – любой нормальный человек в такой ситуации, заблудившись зимой в лесу, вышел бы оттуда по собственным следам на снегу. Отряд должен был оставить за собой такую колею, что обратный путь можно отыскать и ночью…
Ну, а о том, что этот злодейский отряд направлялся, дабы извести только что избранного на царство юного государя Михаила Федоровича Романова, знают даже дети. Гораздо менее известно, что вся эта красивая история – выдумка от начала до конца. Авторы энциклопедических словарей правы в одном: с давних пор известны «многие народные предания», живописующие о том, как Сусанин завел поляков в болота, о том, как героический Иван Осипович еще допрежь того укрыл царя в яме на собственном подворье, а яму замаскировал бревнами. Беда в том, что меж народным фольклором и реальной историей есть некоторая разница…
Вообще-то, авторы вышеприведенных статей сами ничего не надумали, что их, в общем, извиняет. Они лишь добросовестно переписали абзацы из трудов гораздо более ранних «исследователей». «Классическая версия» появляется впервые, пожалуй, в учебнике Константинова (1820 г.) – польские интервенты выступают в поход, чтобы погубить юного царя, но Сусанин, жертвуя собой, заводит их в чащобу. Далее эта история получает развитие в учебнике Кайданова (1834 г.), в работах Устрялова и Глинки, в «Словаре достопамятных людей в России», составленном Бантыш-Каменским. А яма, где якобы укрыл Сусанин царя, впервые появилась в книге князя Козловского «Взгляд на историю Костромы» (1840 г.): «Сусанин увез Михаила в свою деревню Деревищи и там скрыл в яме овина», за что впоследствии «царь повелел перевезти тело Сусанина в Ипатьевский монастырь и похоронить там с честью». Князь в подтверждение своей версии ссылался на некую старинную рукопись, имевшуюся у него, – вот только ни тогда, ни потом никто посторонний этой рукописи так и не увидел…
Ясно, что спасение царя от злодеев-поляков – событие столь знаменательное, что неминуемо должно было остаться не в одной лишь народной памяти, но и в хрониках, летописях, государственных документах. Однако, как ни странно, о злодейском покушении на Михаила нет ни строчки ни в официальных бумагах, ни в частных воспоминаниях. В известной речи митрополита Филарета, где скрупулезно перечисляются все беды и разорения, причиненные России польско-литовскими интервентами, ни словом не упомянуто ни о Сусанине, ни о какой бы то ни было попытке захватить царя в Костроме. Столь же упорное молчание касаемо Сусанина хранит «Наказ послам», отправленный в 1613 г. в Германию, – крайне подробный документ, включающий «все неправды поляков». И, наконец, о покушении польско-литовских солдат на жизнь Михаила, равно как и о самопожертвовании Сусанина, отчего-то промолчал Федор Желябужский, отправленный в 1614 г. послом в Жечь Посполитую для заключения мирного договора. Меж тем Желябужский, стремясь выставить поляков «елико возможно виновными», самым скрупулезным образом перечислил королю «всякие обиды, оскорбления и разорения, принесенные России», вплоть до вовсе уж микроскопических инцидентов. Однако о покушении на царя отчего-то ни словечком не заикнулся…
И, наконец, о якобы имевшем место погребении Сусанина в коломенском Ипатьевском монастыре нет ни строчки в крайне подробных монастырских хрониках, сохранившихся до нашего времени…
Столь дружное молчание объясняется просто – ничего этого не было. Ни подвига Сусанина, ни пресловутого «покушения на царя», ни погребения героя в Ипатьевском монастыре. Неопровержимо установлено: в 1613 г. в прилегающих к Костроме районах вообще не было «чертовых ляхов» – ни королевских отрядов, ни «лисовчиков», ни единого интервента либо чужестранного ловца удачи. Столь же неопровержимо доказано, что в то время, когда на него якобы «покушались», юный царь Михаил вместе с матерью находился в хорошо укрепленном, напоминавшем больше крепость Ипатьевском монастыре близ Костромы, охраняемый сильным отрядом дворянской конницы, да и сама Кострома была хорошо укреплена и полна русскими войсками. Для мало-мальски серьезной попытки захватить или убить царя понадобилась бы целая армия, но ее не было ни поблизости от Костромы, ни вообще в природе: поляки с литовцами сидели на зимних квартирах в соответствии с обычаями того времени. По Руси, правда, в превеликом множестве бродили разбойничьи ватаги: дезертиры из королевской армии, жаждавшие добычи авантюристы, «воровские» казаки вкупе с «гулящими» русскими людьми. Однако эти банды, озабоченные лишь добычей, даже спьяну не рискнули бы приблизиться к укрепленной Костроме с ее мощным гарнизоном.
Вот об этих бандах и пойдет речь…
Единственный источник, из которого черпали сведения все последующие историки и писатели, – жалованная грамота царя Михаила от 1619 г., по просьбе матери выданная им крестьянину Костромского уезда села Домнино «Богдашке» Собинину. И говорится там следующее: «Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси, в прошлом году были на Костроме, и в те годы приходили в Костромский уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина литовские люди изымали, и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти».
Царская милость заключалась в том, что Богдану Собинину и его жене, дочери Сусанина Антониде, пожаловали в вечное владение деревушку Коробово, каковую на вечные времена освободили от всех без исключения налогов, крепостной зависимости и воинской обязанности. Правда, уже в 1633 г. права Антониды, успевшей к тому времени овдоветь, самым наглым образом нарушил архимандрит Новоспасского монастыря – отчего-то он не считал «привилегию» чересчур важной. А это весьма странно, если вспомнить, что Антонида – дочь отважного героя, спасшего жизнь царю…
Антонида пожаловалась Михаилу. Тот урезонил архимандрита и выдал вдове новую «грамоту о заслугах» – но и в ней о подвиге Сусанина говорилось точно теми же словами, что и в предыдущей. Исключительно о том, что Сусанина «спрашивали», а он ничего не сказал злодеям. И только. Царь, полное впечатление, и понятия не имел о том, что на его особу покушались, но Сусанин увел «воров» в болота…
И, кстати, в обеих грамотах черным по белому указано: «Мы, великий государь, были на Костроме». То есть – за стенами могучей крепости, в окружении многочисленного войска. Сусанин, собственно говоря, мог без малейшего ущерба для венценосца выдать «литовским людям» этот секрет Полишинеля, ровным счетом ничего не менявший…
И еще одна загадка: почему «литовские люди» пытали о царе одного Сусанина? Будь у врагов намерение добраться до царя, несмотря ни на что, они обязательно пытали и мучили бы не одного-единственного мужичка, а всех живущих в округе. Тогда и привилегии были бы даны не только родственникам Сусанина, но и близким остальных потерпевших…
Однако о других жертвах налета на деревушку Домнино нигде не упоминается ни словом. Кстати, в «записках» протоиерея села Домнино Алексея так и написано: «…НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ, послужившие источниками для составления рассказа о Сусанине».
Выводы? Самая правдоподобная гипотеза такова: зимой 1613 г. на деревеньку Домнино напала шайка разбойников – то ли поляков, то ли литовцев, то ли казаков ( «казаками» тогда именовались едва ли не все «гулящие» люди). Царь их не интересовал ничуть – а вот добыча интересовала гораздо больше. В летописи о подобных налетах, крайне многочисленных в те времена, сообщается так: «…казаки воруют, проезжих всяких людей по дорогам и крестьян по деревням и селам бьют, грабят, пытают, жгут огнем, ломают, до смерти побивают».
Одной из жертв грабителей – а возможно, единственной жертвой – как раз и стал Иван Сусанин, живший, собственно, не в самой деревне, а «на выселках», то есть в отдаленном хуторе. О том, что налетчики «пытали Сусанина о царе» известно от одного-единственного источника – Богдана Собинина…
Скорее всего, через несколько лет после смерти убитого разбойниками тестя хитромудрый Богдан Собинин сообразил, как обернуть столь тяжелую утрату к своей выгоде, и обратился к известной своим добрым сердцем матери царя Марфе Ивановне. Старушка, не вдаваясь в детали, растрогалась и упросила сына освободить от податей родственников Сусанина. Подобных примеров ее доброты в истории немало. В жалованной грамоте царя так и говорится: «…по нашему царскому милосердию и по совету и прошению матери нашей, государыни великой старицы инокини Марфы Ивановны». Известно, что царь выдал множество таких грамот с формулировкой, ставшей прямо-таки классической: «Во внимание к разорениям, понесенным в Смутное время». Кто в 1619 году проводил бы тщательное расследование? Хитрец Богдашка преподнес добросердечной инокине убедительно сочиненную сказочку, а венценосный ее сын по доброте душевной подмахнул жалованную грамоту…
Поступок Богдашки полностью соответствовал тамошним нравам. Уклонение от «тягла» – налогов и податей – в ту пору стало прямо-таки национальным видом спорта. Летописцы оставили массу свидетельств об изобретательности и хитроумии «податного народа»: одни пытались «приписаться» к монастырским и боярским владениям, что значительно снимало размеры налогов, другие подкупали писцов, чтобы попасть в списки «льготников», третьи попросту не платили, четвертые ударялись в побег, а пятые… как раз и добивались льгот от царя, ссылаясь на любые заслуги перед престолом, какие только можно было вспомнить или придумать. Власть, понятно, препятствовала этому «разгулу неплатежей», как могла, периодически устраивались проверки и аннулирования «льготных грамот», но их оставляли на руках у тех, кто пользовался «особыми» заслугами. Хитроумный Богдан Собинин наверняка думал лишь о сиюминутной выгоде, вряд ли он предвидел, что в последний раз привилегии его потомков (опять-таки «на вечные времена») будет подтверждать Николай I в 1837 г. К тому времени версия о «подвиге Сусанина» уже прочно утвердилась в школьных учебниках и трудах историков.
Впрочем, далеко не во всех. Соловьев, например, считал, что Сусанина замучили «не поляки и не литовцы, а казаки или вообще свои русские разбойники». Он же после кропотливого изучения архивов и доказал, что никаких регулярных войск интервентов в тот период поблизости от Костромы не было. Н. И. Костомаров писал не менее решительно: «В истории Сусанина достоверно только то, что этот крестьянин был одной из бесчисленных жертв, погибших от разбойников, бродивших по России в Смутное время; действительно ли он погиб за то, что не хотел сказать, где находится новоизбранный царь Михаил Федорович, – остается под сомнением…»
С 1862 г., когда была написана обширная работа Костомарова, посвященная мнимости «подвига Сусанина», эти сомнения перешли в уверенность – никаких новых документов, подтвердивших бы легенду, не обнаружено. Что, понятно, не зачеркивает ни красивых легенд, ни достоинств оперы «Жизнь за царя». Еще одно Тоунипанди, только и всего…
Между прочим, некий прототип Сусанина все же существовал – на Украине. И его подвиг, в отличие от Сусанина, подтвержден документальными свидетельствами того времени. Когда в мае 1648 г. Богдан Хмельницкий преследовал польское войско Потоцкого и Калиновского, южнорусский крестьянин Микита Галаган вызвался пойти к отступавшим полякам проводником, но завел их в чащобы, задержав до прихода Хмельницкого, за что и поплатился жизнью.
Вовсе уж откровенной трагикомедией выглядит другой факт. С приходом Советской власти район, в который входило село Коробово, переименовали в Сусанинский. В конце 20-х гг. районная газета сообщила, что первый секретарь Сусанинского райкома ВКП(б) заблудился и утонул в болоте. Впрочем, времена были суровые, шла коллективизация, и мужички могли попросту подмогнуть товарищу секретарю нырнуть поглубже…
А если серьезно, укоренившаяся легенда о «спасителе царя Сусанине» явственно отдает некой извращенностью. Очень многие слыхом не слыхивали о реальных борцах с интервентами, немало сделавших для России, – о Прокопии и Захаре Ляпуновых, Михаиле Скопине-Шуйском. Зато о мифическом «спасителе царя» наслышан каждый второй, не считая каждого первого.
URL записи
URL записи11.07.2011 в 11:10
Пишет N.K.V.D.:Миф.
Во время подавления антоновского восстания на Тамбовщине в 1921-м году Тухачевский широко применял боевые отравляющие вещества против мирных жителей, что повлекло за собой многочисленные жертвы.
читать дальше
ПРИМЕРЫ: «Мы никогда не узнаем, сколько людей погибло от химических снарядов, выпущенных по острову на озере вблизи селения Кипец и во многих других местах. И сколько среди них было женщин и детей. Раз Тухачевский опасался, что во время обстрела мятежников химическими снарядами может пострадать скот, значит, повстанцы укрывались в лесах со своими коровами, овцами. За животными кто-то должен был ухаживать, следовательно, хотя бы часть «бандитов» укрывалась от карателей вместе с семьями, которые тоже стали жертвами «газовой зачистки» по Тухачевскому. По крайней мере в одном следует признать абсолютный приоритет «красного маршала» в мировой военной науке: он впервые в истории применил боевые отравляющие вещества против безоружного мирного населения»
«В начале двадцатых командарм Тухачевский травил газами тамбовских крестьян, недовольных «продразверсткой». Газеты писали о тысяче отравленных».
«…в этой беспощадной войне со своим народом впервые взошла звезда «выдающегося советского маршала» Тухачевского, который прославился тем, что тысячами крестьян газами травил. Даже фашисты в годы Великой Отечественной до этого не додумались. Не будет лишним напомнить и то, что одной из решающих причин Тамбовского восстания (помимо людоедской продразверстки) было установление Троцким (Лейбой Бронштейном) в городе Козлове памятника Иуде».
Данная информация должно продемонстрировать изуверскую сущность советской власти и полное её пренебрежение человеческой жизнью.
Действительность
Для начала надо сказать, что применение боевых отравляющих веществ во время Гражданской войны было делом совершенно обычным: ими неоднократно пользовались как белогвардейцы, так и британские оккупационные части на Севере. Примерно в это же время Уинстон Черчилль, занимавший пост министра колониальных дел, писал: «Я не понимаю эту щепетильность в связи с использованием газа. Я твердо выступаю за использование ядовитого газа против нецивилизованных племен». читать дальше
Имелось химическое оружие и на вооружении армии царской России. Всего за 1916–17 год было снаряжено и сдано около 1.700.000 3-х дюймовых (93% от общего объема выпуска) и около 120.000 6-ти дюймовых боеприпасов (7%). Из этого количества РККА досталось в боеспособном состоянии примерно 3000 баллонов с хлором типа E70, 13360 штук 3-х дюймовых химснарядов (исключительно марки АЖО) и 5000 штук 6-ти дюймовых химснарядов (марки АЖО и ЮО).
Самым известным случаем применения БОВ со стороны «красных» во время Гражданской войны является один из эпизодов подавления «антоновщины» в 1921-м году. При этом большинство авторов, пишущих о «травле крестьян газами», делают очевидную подмену понятий, представляя дело так, будто бы БОВ использовались против мирного населения, а не против вооружённых формирований. Также надо добавить, что направленные в распоряжении Тамбовского командования 2.000 3-х дюймовых химических снарядов были марки АЖО, то есть снаряжены смесью на основе хлорпикрина («слезогонки», в настоящее время использующейся в армии РФ для имитации газовых атак).
В качестве документальной базы наиболее часто используются следующие документы, первоначально опубликованные в книге Б.В. Сенникова «Тамбовское восстание 1918-1921 гг. и раскрестьянивание России 1929-1933 гг.»:
Начальнику артиллерии войск Тамбовской губернии
Тов. Косинову
РАПОРТ
20 августа 1921 года.
Дивизион Заволжских артиллерийских курсов при операции в районе озера Рамза израсходовал 130 шрапнельных, 69 фугасных и 79 химических снарядов.
Начальник отдела Заволжского дивизиона
артиллерийских курсов Михайлов
Начальнику артиллерии группы войск Тамбовской губернии
23 августа 1921 года. с. Инжавино
ДОНЕСЕНИЕ
Августа 22 числа 1921 года артиллерийская бригада Заволжского В.О. в бою с бандитами израсходовала 160 шрапнельных, 75 фугасных и 85 химических снарядов.
Начальник артиллерийской бригады
(подпись нрзб)
Начальнику 6-го боеучастка тов. Павлову
23 августа 1921 г. с. Инжавино
ДОНЕСЕНИЕ
По получении мною боевого задания дивизион в 8.00 22 августа с.г. выступил из села Инжавино в село Карай-Салтыково, из которого, после большого привала и отдыха в 14.00 по направлению села Кипец. Заняв там позицию, в 16.00 открыл огонь по острову на озере в 1,5 версты северо-западнее села Кипец. Дивизионом выпущено по острову 65 шрапнельных снарядов, 49 фугасных и 50 химических. После выполнения своей задачи дивизион в 20.00 снялся с позиции и возвратился ночью в село Инжавино.
Командир Белгородских артиллерийских курсов Нечаев
Однако, подлинность приведенных документов вызывает серьезные сомнения. И дело даже не в том, что ознакомиться с подлинниками не представляется возможным, ибо Сенников ссылается на загадочный «архив автора», якобы найденный им под полом Зимней церкви Казанского монастыря в Тамбове, сколько в том, что сами тексты не выдерживают никакой критики.
Никакого «Начальника артиллерии» в войсках Тамбовской губернии не существовало. Деятельность артиллерии курировал Инспектор артиллерии войск Тамбовской губернии. Причем именно курировал, поскольку в оперативном отношении батареи подчинялись начальникам боеучастков или частей, к которым были приданы. Все командиры дивизионов и батарей не раз обращались с рапортами и донесениями к Инспарту и прекрасно знали кому они пишут, поэтому именовать Инспектора «Начальником артиллерии» никому из них просто не пришло бы в голову. Да и во всех других документах такое обращения ни разу не встречается.
Не «Косинову», a Касинову. Должность тамбовского Инспектора артиллерии занимал Сергей Михайлович Касинов. Об этом также были осведомлены командиры частей, тем более, что все они были с ним лично знакомы.
Ни 20, ни 22 августа никакой «операции в районе озера Рамза» не проводилось, да и «боев с бандитами» с применением артиллерии в эти дни не было, посему никаких снарядов выпущено быть не могло.
Никаких «Заволжских артиллерийских курсов» в природе не существовало. В составе 2-го боеучастка Тамбовских войск действовала стрелковая бригада Заволжского Военного Округа (ЗВО, командир Гаевский) со своим легким артиллерийским дивизионом, обычно в документах именовавшемся «легартдив ЗВО» (командир Смок Харитон Каятанович). Больше ничего «Заволжского» в губернии не было. Кстати, учитывая то, что легартдив входил во 2-й боуечасток, странно выглядит его участие «в операции в районе озера Рамза», каковой район был зоной ответственности 6-го боеучастка, имевшего свою артиллерию.
Термин «фугасных» в документах тех лет не встречается вообще ни разу. Ни в тамбовских, ни в документах фондов ГАУ, ЦУС, Штаба РККА, ни в других таковой термин не используется. Фугасные снаряды в то время именовались «гранатами» для 3-дюймовой артиллерии, и «бомбами» для орудий более крупных калибров. Поэтому ни одному командиру-артиллеристу, да и не только артиллеристу, и в голову не могло прийти написать «фугасных».
Ну и совсем уж несуразно выглядит термин «отдел» применительно к артдивизиону, в котором существовали разведка, связь, канцелярия, но чтобы «отдел»…
Фамилии Михайлов среди личных дел комсостава легартдива ЗВО, да и во всей Тамбовской артиллерии, равно как и в управлении Инспарта нет.
Разумеется, никакой «артиллерийской бригады» в Тамбовской губернии, да и Красной Армии вообще, в то время не было.
Неясно также, почему Начальник мифической артиллерийской бригады пишет свое донесение из Инжавино, где располагался штаб 6-го боеучастка, a не из Рассказово (или со ст. Сампур), из штаба 2-го боеучастка, которому и принадлежала артиллерия ЗВО.
Все вышесказанное не позволяет признать приведенные тексты соответствующими действительности.
Тем не менее, стрельба химснарядами по повстанцам всё же велась. Правда, в реальности это выглядело совсем не так эффектно, как описывается во многих работах. Известен всего один случай заранее запланированного применения газовых снарядов. Кроме того, выявлено два разрозненных эпизода артиллерийской стрельбы химическими боеприпасами. Этим исчерпывается история «Тамбовских газов».
Первый эпизод произошел в зоне 2-го боеучастка. После получения присланных химснарядов, командир легартдива ЗВО Смок своим очередным донесением о движении боеприпасов сообщал Инспарту Касинову, что «…за период 13-20 июля израсходовано 15 химических снарядов…».Ни поводов, ни результатов этой стрельбы в донесении не указано. Представляется наиболее вероятным, что эти боеприпасы были выпущены в бою у деревни Смольная Вершина в ночь с 12 на 13 июля, по крайней мере, других столкновений с применением артиллерии в период 13-20 июля выявить не удалось. Остается только гадать, что же заставило красноармейцев выпустить аж целых 15 газовых снарядов. Увы, ничем, кроме чистого любопытства и желания узнать насколько эффективны новые боеприпасы объяснить это невозможно. Вероятно, убедившись в невысокой действенности химснарядов, артиллеристы 2-го боеучастка больше нигде их не применяли, и указанные 15 снарядов исчерпали весь использованный газовый арсенал.
Несколько масштабнее выглядела артиллерийская стрельба в зоне 6-го боеучастка. 16 июля Начарт 6 Родов докладывал Инспарту Касинову «…14 июля 22 часа белгородская конная батарея обстреляла лес что южнее озера Ильмень. Выпущено 7 шрапнелей и 50 химических снарядов…». К сожалению, целенаправленные поиски причин, целей и результатов этой стрельбы не принесли никаких результатов. Ни в оперативных приказах, ни в сводках боевых действий, ни в донесениях командиров частей об этом артобстреле не сказано ни слова. Единственным документом упоминающим данный обстрел остается процитированное выше донесение, поэтому можно утверждать почти наверняка, что никаких серьезных результатов указанный обстрел не принес, ибо даже не удостоился упоминаний в оперативных сводках как эпизод мало значимый.
Единственной операцией, где газовый обстрел планировался заранее, была операция по очистке Паревского леса, проводившаяся в период с 1 по 10 августа 1921 г. силами частей 6-го боеучастка.
Ранее, при проведении подобных операций, красные части не раз применяли метод обстрела занятых антоновцами лесов артиллерийским огнем, служившим некоторым подобием артиллерийской подготовки. Поскольку расположение повстанцев редко когда было известно в точности, огонь этот вёлся «по площадям», в расчете, главным образом, не на материальное, a на моральное воздействие. И эта цель успешно достигалась. Например, описывая операцию по очистке Богдановского леса, в которой впервые был использован этот метод, Мокеров пишет: «…этот огонь, не нанеся больших потерь рассеянным в лесах бандам, произвел на них потрясающее моральное впечатление. Многие бандиты в одиночку и мелкими группами в результате артиллерийского воздействия стали выходить на опушки лесов и сдаваться…».
2 августа Начарт-6 Родов докладывал Инспарту Касинову «В 16 часов, по острову, что с/з села Кипец был открыт огонь. Выпущено 65 шрапнелей, 49 гранат и 59 химических. В 20 часов батарея вернулась в Карай-Салтыково…». Оперсводка № 519 сообщала: «…2/8 взводом Белгородской батареи был произведен обстрел леса, что 4 версты западнее Козьмодемянское-Рамза, 8 верст с/в ст. Инжавино после чего отрядом в составе: роты краскомов, роты Рязанского батальона, роты Костромского батальона и роты Владимирского батальона было приступлено к осмотру леса…» Как и ранее, вновь был использован испытанный и хорошо себя показавший метод предварительной «артиллерийской подготовки» перед прочесыванием зарослей, однако на сей раз уже с применением химснарядов, которые, как ожидалось, должны были бы «дать действительно большие результаты». Увы, надежды не оправдались.
2 августа курсантские роты, выделенные для прочесывания, продвинулись с исходной линии Кипец – северная окраина Паревки до линии Кипец – северная окраина озера Змеиное, успев осмотреть лесистый остров «Сухие Дубки», по которому и велся огонь. «…На Сухих Дубках курской ротой были найдены привязанными к деревьям три лошади с седлами; на последних имелись надписи А. Антонова, Д. Антонова и Вострикова. Серая лошадь, по всем приметам, принадлежала Антонову. В камышах в наши руки попало за день несколько бандитов, которые подтвердили, что в районе Змеиного озера находится главная группа бандитов, человек в 100, среди них и сам Антонов. Другая группа, человек в 80, отделилась и ушла на юг. Среди главной группы заметно течение к добровольной сдаче, но Антонов предупредил, что будет собственноручно расстреливать всякого, кто будет пытаться переходить…». То ли антоновцы успели выйти из-под обстрела, то ли их вообще не было на «Сухих Дубках», но ни о каких понесенных ими потерях ни оперсводки, ни Доможиров не сообщают. Единственными трофеями были «три лошади», кстати, благополучно пережившие газовый обстрел. Что, впрочем, не удивительно, ибо «59 химических снарядов» было явно недостаточно, чтобы создать газовое облако необходимой концентрации.
Таким образом, использование газовых снарядов против повстанцев имело скорее моральный эффект, чем приносило им какой-либо материальный урон. И, разумеется, никаких «тысяч погибших от газа», в том числе женщин и детей, в реальности не существовало.
Источник: Бобков А.С.
URL записи
08.07.2011 в 17:47
Пишет N.K.V.D.:Миф.
Утверждается, что Сталин в начале 1943-го года пытался «перехватить» в своих целях идею русского национализма и даже планировал для этого использовать внешнюю атрибутику в виде бело-сине-красного флага.
а на самом деле...
Это утверждение также попало и на страницы скандально известного «зубовского» учебника по истории России: «Сталин был даже готов ввести в 1942-1943 гг. трехцветный бело-сине-красный флаг как флаг части СССР - Российской СФСР»
Также программа радиостанции "Свобода" от 10.03.2009 сообщала «В Госархиве Российской Федерации лежит документ – это перехваченная немцами секретная телеграмма Молотова Литвинову, который был советским представителем в Вашингтоне, о том, что было экстренное совещание Политбюро, и Сталин хотел ввести бело-сине-красный флаг, чтобы перехватить это у Власова»
В 2000 г. Юрий Цурганов опубликовал статью с интригующим названием «Зачем Сталину трехцветное знамя?». В ней цитируется телеграмма Молотова послу в США Литвинову от начала 1943 г.:
«В начале 1943 г немцы перехватили телеграмму наркома иностранных дел В.Молотова советскому послу в Вашингтоне М.Литвинову. Документ, носивший гриф «совершенно секретно» сообщал: «10 января состоялось заседание Политбюро. Слушали сообщение НКВД и местных парторганизаций на постановление об изменении знаков различия и других мероприятиях по укреплению дисциплины в армии. Тов. Сталин считает необходимым безоговорочное проведение взятого курса. Общая политическая и военная обстановка требует еще более резкого курса на патриотизм и русский национализм. Признано своевременным переименование Красной армии в Русскую армию, изменение названия «командир» на «офицер», привлечение духовенства всех исповеданий, особенно православного, на службу в армии. По поручению т. Сталина выясните реакцию Белого дома, Конгресса и военных кругов на возможность изменения конституции и введения трехцветного государственного флага».
В данной статье дается ссылка на источник информации - ГАРФ, фонд 5761, оп. 1, д. 9, л. 207. Далее, в этой же статье, утверждается: «А 22 июня 1943 г. в Пскове прошел парад одной из частей РОА под бело-сине-красным флагом. Это был первый, после гражданской войны, зафиксированный случай поднятия русского знамени на родине. Телеграмма Молотова свидетельствует о стремлении Сталина перехватить у Власова внешнюю атрибутику и терминологию русского патриотизма».
Совершенно не понятно, почему Сталин уже 10.01.1943 знает, что 22.06.1943 в Пскове состоится парад РОА и поэтому пытается «перехватить внешнюю атрибутику».
Указанный фонд относится к числу тех, что содержат документы по истории белого движения и эмиграции, а именно фонд 5761 это: «КАНЦЕЛЯРИЯ КАЗАЧЬЕГО НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. г. Прага. 1941 - 1945», что совершенно не подходит для хранения телеграмм советского МИДа. Не могут в пределах одного дела в архиве лежать документы коллаборационистского «командира Донского Корпуса» и советская МИДовская переписка. И главный редактор журнала «Посев» Ю. Цурганов об этом знает, так как работал именно с этим фондом в архивах. В своей книге «Неудавшийся реванш» он ссылается на документ из этого фонда, соседние листы дела.
Саму же телеграмму Ю. Цурганов приводит не полностью и «забывает» указать, что «оригинал» написан на украинском языке. Конечно же, не приходится предполагать, что переписка между Молотовым и посольством в США шла по-украински.
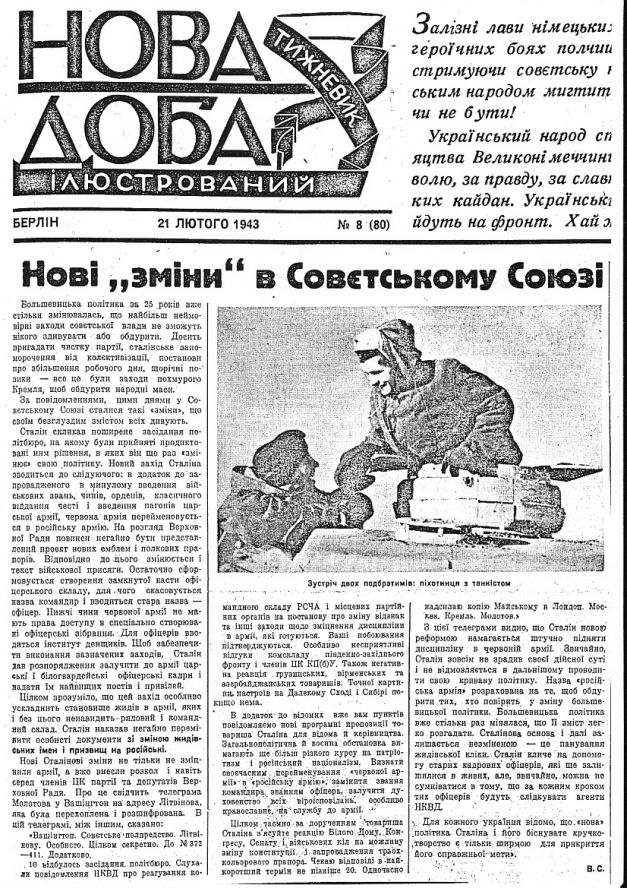
Вот так просто творческому переосмыслению эмигрантской прессы и немецкой пропаганды подверглись указ Президиума Верховного Совета от 06.01.1943 «О введении новых знаков различия для личного состава Красной Армии» и одноименный приказ НКО от 15.01.43
URL записи
06.07.2011 в 11:26
Пишет N.K.V.D.:Миф.
Советский энциклопедический словарь 1964 г. отзывается об этой героической личности со всем уважением: «Сусанин Иван Осипович (ум. 1613) – крестьянин с. Домнино Костромского у., нар. герой, замученный польскими интервентами, отряд к-рых он завел в непроходимую лесную глушь. Героич. поступок С. лег в основу мн. нар. преданий, поэтич. и муз. произв.».
Энциклопедический словарь 1985-го еще более уважителен и прямо-таки эпичен: «Сусанин Иван Осипович (?–1613) – герой освободит. борьбы рус. народа нач. XVII в., крестьянин Костромского уезда. Зимой 1613 завел отряд польск. интервентов в непроходимое лесное болото, за что был замучен».
РеальностьПожалуй, автор, писавший в 85-м, гораздо больше заботился о достоверности, нежели его коллега из 64-го. «Болота», нужно признать, выглядят не в пример убедительнее «лесной глуши», из которой «чертовы ляхи» отчего-то не нашли выхода – любой нормальный человек в такой ситуации, заблудившись зимой в лесу, вышел бы оттуда по собственным следам на снегу. Отряд должен был оставить за собой такую колею, что обратный путь можно отыскать и ночью…
Ну, а о том, что этот злодейский отряд направлялся, дабы извести только что избранного на царство юного государя Михаила Федоровича Романова, знают даже дети. Гораздо менее известно, что вся эта красивая история – выдумка от начала до конца. Авторы энциклопедических словарей правы в одном: с давних пор известны «многие народные предания», живописующие о том, как Сусанин завел поляков в болота, о том, как героический Иван Осипович еще допрежь того укрыл царя в яме на собственном подворье, а яму замаскировал бревнами. Беда в том, что меж народным фольклором и реальной историей есть некоторая разница…
Вообще-то, авторы вышеприведенных статей сами ничего не надумали, что их, в общем, извиняет. Они лишь добросовестно переписали абзацы из трудов гораздо более ранних «исследователей». «Классическая версия» появляется впервые, пожалуй, в учебнике Константинова (1820 г.) – польские интервенты выступают в поход, чтобы погубить юного царя, но Сусанин, жертвуя собой, заводит их в чащобу. Далее эта история получает развитие в учебнике Кайданова (1834 г.), в работах Устрялова и Глинки, в «Словаре достопамятных людей в России», составленном Бантыш-Каменским. А яма, где якобы укрыл Сусанин царя, впервые появилась в книге князя Козловского «Взгляд на историю Костромы» (1840 г.): «Сусанин увез Михаила в свою деревню Деревищи и там скрыл в яме овина», за что впоследствии «царь повелел перевезти тело Сусанина в Ипатьевский монастырь и похоронить там с честью». Князь в подтверждение своей версии ссылался на некую старинную рукопись, имевшуюся у него, – вот только ни тогда, ни потом никто посторонний этой рукописи так и не увидел…
Ясно, что спасение царя от злодеев-поляков – событие столь знаменательное, что неминуемо должно было остаться не в одной лишь народной памяти, но и в хрониках, летописях, государственных документах. Однако, как ни странно, о злодейском покушении на Михаила нет ни строчки ни в официальных бумагах, ни в частных воспоминаниях. В известной речи митрополита Филарета, где скрупулезно перечисляются все беды и разорения, причиненные России польско-литовскими интервентами, ни словом не упомянуто ни о Сусанине, ни о какой бы то ни было попытке захватить царя в Костроме. Столь же упорное молчание касаемо Сусанина хранит «Наказ послам», отправленный в 1613 г. в Германию, – крайне подробный документ, включающий «все неправды поляков». И, наконец, о покушении польско-литовских солдат на жизнь Михаила, равно как и о самопожертвовании Сусанина, отчего-то промолчал Федор Желябужский, отправленный в 1614 г. послом в Жечь Посполитую для заключения мирного договора. Меж тем Желябужский, стремясь выставить поляков «елико возможно виновными», самым скрупулезным образом перечислил королю «всякие обиды, оскорбления и разорения, принесенные России», вплоть до вовсе уж микроскопических инцидентов. Однако о покушении на царя отчего-то ни словечком не заикнулся…
И, наконец, о якобы имевшем место погребении Сусанина в коломенском Ипатьевском монастыре нет ни строчки в крайне подробных монастырских хрониках, сохранившихся до нашего времени…
Столь дружное молчание объясняется просто – ничего этого не было. Ни подвига Сусанина, ни пресловутого «покушения на царя», ни погребения героя в Ипатьевском монастыре. Неопровержимо установлено: в 1613 г. в прилегающих к Костроме районах вообще не было «чертовых ляхов» – ни королевских отрядов, ни «лисовчиков», ни единого интервента либо чужестранного ловца удачи. Столь же неопровержимо доказано, что в то время, когда на него якобы «покушались», юный царь Михаил вместе с матерью находился в хорошо укрепленном, напоминавшем больше крепость Ипатьевском монастыре близ Костромы, охраняемый сильным отрядом дворянской конницы, да и сама Кострома была хорошо укреплена и полна русскими войсками. Для мало-мальски серьезной попытки захватить или убить царя понадобилась бы целая армия, но ее не было ни поблизости от Костромы, ни вообще в природе: поляки с литовцами сидели на зимних квартирах в соответствии с обычаями того времени. По Руси, правда, в превеликом множестве бродили разбойничьи ватаги: дезертиры из королевской армии, жаждавшие добычи авантюристы, «воровские» казаки вкупе с «гулящими» русскими людьми. Однако эти банды, озабоченные лишь добычей, даже спьяну не рискнули бы приблизиться к укрепленной Костроме с ее мощным гарнизоном.
Вот об этих бандах и пойдет речь…
Единственный источник, из которого черпали сведения все последующие историки и писатели, – жалованная грамота царя Михаила от 1619 г., по просьбе матери выданная им крестьянину Костромского уезда села Домнино «Богдашке» Собинину. И говорится там следующее: «Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси, в прошлом году были на Костроме, и в те годы приходили в Костромский уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина литовские люди изымали, и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти».
Царская милость заключалась в том, что Богдану Собинину и его жене, дочери Сусанина Антониде, пожаловали в вечное владение деревушку Коробово, каковую на вечные времена освободили от всех без исключения налогов, крепостной зависимости и воинской обязанности. Правда, уже в 1633 г. права Антониды, успевшей к тому времени овдоветь, самым наглым образом нарушил архимандрит Новоспасского монастыря – отчего-то он не считал «привилегию» чересчур важной. А это весьма странно, если вспомнить, что Антонида – дочь отважного героя, спасшего жизнь царю…
Антонида пожаловалась Михаилу. Тот урезонил архимандрита и выдал вдове новую «грамоту о заслугах» – но и в ней о подвиге Сусанина говорилось точно теми же словами, что и в предыдущей. Исключительно о том, что Сусанина «спрашивали», а он ничего не сказал злодеям. И только. Царь, полное впечатление, и понятия не имел о том, что на его особу покушались, но Сусанин увел «воров» в болота…
И, кстати, в обеих грамотах черным по белому указано: «Мы, великий государь, были на Костроме». То есть – за стенами могучей крепости, в окружении многочисленного войска. Сусанин, собственно говоря, мог без малейшего ущерба для венценосца выдать «литовским людям» этот секрет Полишинеля, ровным счетом ничего не менявший…
И еще одна загадка: почему «литовские люди» пытали о царе одного Сусанина? Будь у врагов намерение добраться до царя, несмотря ни на что, они обязательно пытали и мучили бы не одного-единственного мужичка, а всех живущих в округе. Тогда и привилегии были бы даны не только родственникам Сусанина, но и близким остальных потерпевших…
Однако о других жертвах налета на деревушку Домнино нигде не упоминается ни словом. Кстати, в «записках» протоиерея села Домнино Алексея так и написано: «…НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ, послужившие источниками для составления рассказа о Сусанине».
Выводы? Самая правдоподобная гипотеза такова: зимой 1613 г. на деревеньку Домнино напала шайка разбойников – то ли поляков, то ли литовцев, то ли казаков ( «казаками» тогда именовались едва ли не все «гулящие» люди). Царь их не интересовал ничуть – а вот добыча интересовала гораздо больше. В летописи о подобных налетах, крайне многочисленных в те времена, сообщается так: «…казаки воруют, проезжих всяких людей по дорогам и крестьян по деревням и селам бьют, грабят, пытают, жгут огнем, ломают, до смерти побивают».
Одной из жертв грабителей – а возможно, единственной жертвой – как раз и стал Иван Сусанин, живший, собственно, не в самой деревне, а «на выселках», то есть в отдаленном хуторе. О том, что налетчики «пытали Сусанина о царе» известно от одного-единственного источника – Богдана Собинина…
Скорее всего, через несколько лет после смерти убитого разбойниками тестя хитромудрый Богдан Собинин сообразил, как обернуть столь тяжелую утрату к своей выгоде, и обратился к известной своим добрым сердцем матери царя Марфе Ивановне. Старушка, не вдаваясь в детали, растрогалась и упросила сына освободить от податей родственников Сусанина. Подобных примеров ее доброты в истории немало. В жалованной грамоте царя так и говорится: «…по нашему царскому милосердию и по совету и прошению матери нашей, государыни великой старицы инокини Марфы Ивановны». Известно, что царь выдал множество таких грамот с формулировкой, ставшей прямо-таки классической: «Во внимание к разорениям, понесенным в Смутное время». Кто в 1619 году проводил бы тщательное расследование? Хитрец Богдашка преподнес добросердечной инокине убедительно сочиненную сказочку, а венценосный ее сын по доброте душевной подмахнул жалованную грамоту…
Поступок Богдашки полностью соответствовал тамошним нравам. Уклонение от «тягла» – налогов и податей – в ту пору стало прямо-таки национальным видом спорта. Летописцы оставили массу свидетельств об изобретательности и хитроумии «податного народа»: одни пытались «приписаться» к монастырским и боярским владениям, что значительно снимало размеры налогов, другие подкупали писцов, чтобы попасть в списки «льготников», третьи попросту не платили, четвертые ударялись в побег, а пятые… как раз и добивались льгот от царя, ссылаясь на любые заслуги перед престолом, какие только можно было вспомнить или придумать. Власть, понятно, препятствовала этому «разгулу неплатежей», как могла, периодически устраивались проверки и аннулирования «льготных грамот», но их оставляли на руках у тех, кто пользовался «особыми» заслугами. Хитроумный Богдан Собинин наверняка думал лишь о сиюминутной выгоде, вряд ли он предвидел, что в последний раз привилегии его потомков (опять-таки «на вечные времена») будет подтверждать Николай I в 1837 г. К тому времени версия о «подвиге Сусанина» уже прочно утвердилась в школьных учебниках и трудах историков.
Впрочем, далеко не во всех. Соловьев, например, считал, что Сусанина замучили «не поляки и не литовцы, а казаки или вообще свои русские разбойники». Он же после кропотливого изучения архивов и доказал, что никаких регулярных войск интервентов в тот период поблизости от Костромы не было. Н. И. Костомаров писал не менее решительно: «В истории Сусанина достоверно только то, что этот крестьянин был одной из бесчисленных жертв, погибших от разбойников, бродивших по России в Смутное время; действительно ли он погиб за то, что не хотел сказать, где находится новоизбранный царь Михаил Федорович, – остается под сомнением…»
С 1862 г., когда была написана обширная работа Костомарова, посвященная мнимости «подвига Сусанина», эти сомнения перешли в уверенность – никаких новых документов, подтвердивших бы легенду, не обнаружено. Что, понятно, не зачеркивает ни красивых легенд, ни достоинств оперы «Жизнь за царя». Еще одно Тоунипанди, только и всего…
Между прочим, некий прототип Сусанина все же существовал – на Украине. И его подвиг, в отличие от Сусанина, подтвержден документальными свидетельствами того времени. Когда в мае 1648 г. Богдан Хмельницкий преследовал польское войско Потоцкого и Калиновского, южнорусский крестьянин Микита Галаган вызвался пойти к отступавшим полякам проводником, но завел их в чащобы, задержав до прихода Хмельницкого, за что и поплатился жизнью.
Вовсе уж откровенной трагикомедией выглядит другой факт. С приходом Советской власти район, в который входило село Коробово, переименовали в Сусанинский. В конце 20-х гг. районная газета сообщила, что первый секретарь Сусанинского райкома ВКП(б) заблудился и утонул в болоте. Впрочем, времена были суровые, шла коллективизация, и мужички могли попросту подмогнуть товарищу секретарю нырнуть поглубже…
А если серьезно, укоренившаяся легенда о «спасителе царя Сусанине» явственно отдает некой извращенностью. Очень многие слыхом не слыхивали о реальных борцах с интервентами, немало сделавших для России, – о Прокопии и Захаре Ляпуновых, Михаиле Скопине-Шуйском. Зато о мифическом «спасителе царя» наслышан каждый второй, не считая каждого первого.
URL записи
@темы: должен знать каждый, хроноложцы, История, Политика, Статьи